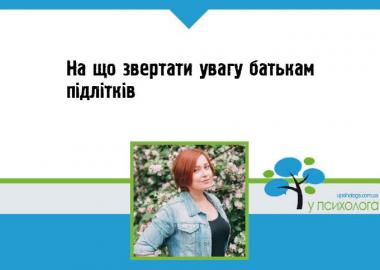Что будет, если я поведу подростка к психологу
 Оглядываясь на свой опыт в психологическом консультировании, я выделил интересную тенденцию: чуть больше половины моих клиентов – подростки. Подростковая психотерапия и консультирование, с одной стороны, очень востребованы (пресловутый “трудный возраст”), c другой - есть нехватка грамотной литературы по этой теме.
Оглядываясь на свой опыт в психологическом консультировании, я выделил интересную тенденцию: чуть больше половины моих клиентов – подростки. Подростковая психотерапия и консультирование, с одной стороны, очень востребованы (пресловутый “трудный возраст”), c другой - есть нехватка грамотной литературы по этой теме.
В этой заметке я хотел бы поделиться с родителями и коллегами своими соображениями о том, как организован процесс консультирования с подростком. Что происходит за дверью кабинета и вне его? (а там происходит очень много интересного!) Как влияет на работу тот факт, что заказчик и клиент – это разные люди? (ведь инициатор ожидает результата, а у подростка могут быть совсем другие ожидания от консультирования, вплоть до их отсутствия). Каким должен быть контакт с родителями, что бы перемены от работы с психологом всё-таки состоялись?
Итак, родитель, или родители привели своего 13-летнего уже-не-ребёнка на первую консультацию. Важнейшее правило – чтобы все, кто пришёл первую встречу провели её вместе, без “секретных сговоров с психологом”. Безусловно, у всех может быть что-то такое, что рассказать можно только лично психологу, да и то, это большая работа над собой, превозмогание стыда, вины. Но на первой встрече клиенты зачастую не готовы к такой откровенности, но хотят (тут речь о родителях) “договориться” с психологом, найти в нём личного союзника. Психолог - это, безусловно, союзник, но не только родителей, а и подростка.
После изложения проблемы родителем нужно дать высказаться подростку. Даже молчание или пресловутое “у меня всё хорошо” – это тоже предъявление себя подростком, которое стоит уважать. После обсуждения деталей запроса и ожиданий, а так же сбора анамнеза (идеальный вариант, как я думаю, – это беседа и + опросник) первичная консультация закончена. Сам процесс работы с подростком, по моему мнению, как и любая терапия, происходит как в кабинете, так и вне его. В ходе работы подросток идентифицируется (бессознательно отождествляет себя) с психологом, получая модель “ здорового взрослого”. Можно сказать таким образом, что это “ терапия примером” - подросток учится понимать свои чувства через психолога. И это заслуживает как минимум отдельной статьи.
Вне кабинета, как я писал выше, происходит много интересного, а именно – отношения “родитель – подросток” начинают меняться. В любом случае. Даже если они были у психолога лишь один раз и ушли в гневе, хлопнув дверью, всё равно им будет что обсудить. Например, психолога, который ничего не понимает и несёт чушь. Будет временный альянс против психолога и чувство “неразрешимости” своей проблемы, бессознательное торжество над психологом.
Підберіть психолога для підлітка онлайн або в містах України.
В большинстве случаев, когда альянс с психологом всё же достигнут, возможны другие проявления: родитель может пытаться “продавить границы” не меньше, а то и больше, чем подросток. К примеру, он может постоянно и настойчиво расспрашивать своего сына, а что же там происходило, несмотря на явное нежелание последнего говорить. В любом случае психолог по возможности должен стараться установить контакт как с подростком, так и с родителем, и помочь обоим в установлении границ между ними.
Интересный и сложный аспект работы подросткового психолога – несовпадение в одном лице заказчика и клиента. Обычно в терапию человек приходит, чтобы лучше реализовывать свои потребности, получить перемены. Тут клиент на первый взгляд в этом совсем не заинтересован. Поэтому на первом этапе работы важным моментом является формирование запроса как родителем, так и подростком. Важно, чтобы они как минимум не противоречили друг другу. Если это длительное консультирование, то запрос, возможно, будет меняться. Обсуждать это нужно как вместе с родителем, так и подростком.
Тут мы подходим к самой интересной части – родительские встречи. Это когда психолог работает с подростком и родителем одновременно, как и на первой встрече. На этих встречах психолог отвечает на вопросы родителя, делится своим впечатлением от работы. Т.е. вопросы, которые родитель хочет задать с глазу на глаз, должны оговариваться именно так, втроём. Конечно, иногда бывают исключения, но о них в другой раз…
Я провожу родительские встречи раз в 4-5 консультаций. Перед ними я обсуждаю с подростком, каких вопросов нельзя касаться, каких можно, как именно я буду об этом говорить (безопасность превыше всего). Также, такие встречи – прекрасный шанс увидеть, как консультирование меняет отношения в семье, что остается пока что “опасной зоной”.
Также важный аспект в такой работе – те случаи, когда родитель нуждается в психотерапевтической помощи ничуть не меньше, чем подросток (а иногда и больше). Очень важно вовремя, мягко и уверенно перенаправить родителя к другому психологу (психолог, работающий с подростком, не может работать и с родителем, кроме формата родительских встреч, иначе о границах тут речи быть не может, психолог просто станет “другом семьи”). Психолог направляет внимание родителя на те аспекты взаимоотношений, в которых поведение родителя вредит и ему и подростку. К примеру: “Я заметил, что Ваша потребность контролировать Васю не становится слабее. Мы обсуждали, что в тех случаях, когда Вы слишком сильно его контролируете (к примеру, на прошлой неделе Вы без его ведома и объективных на то причин читали его переписку), его тенденция убегать из дому вновь возвращается. Одновременно с этим, я признаю, что это не Ваш злой умысел и не Ваша вина. Я считаю, что кроме родительских встреч, Вам имеет смысл и самому посещать психолога, что разобраться с теми чувствами, которые стоят за таким поведением”.
Таким образом, открытость психолога подростку и его родителям, а так же границы и с теми и с другими, позволят сделать консультирование тем местом, где обе стороны смогут выражать свои чувства и будут готовы к более глубокому диалогу друг с другом.
Опубликовано 2019-09-10 в 17:40
Опубліковано на сайті 06-09-2019

 Татьяна Александровна 4 хвилини тому:
Татьяна Александровна 4 хвилини тому: